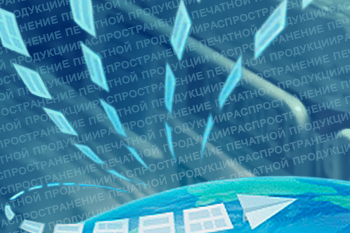Простите за длинную самоцитату: «Мне кажется, что в нас самих укоренилась привычка, над которой мы украдкой смеялись в годы застоя. Помните, если сегодня нам говорили, что будет так, завтра непременно провозглашали, что все сбылось, что «так» – уже есть. И вот новая реальность, реальность перестройки. Нам представляется, что уж кто-кто, а мы были к ней готовы давно, собственно, нам-то перестраиваться нужды нет, и мы нетерпеливо оглядываемся по сторонам и с возмущением (следствием той самой привычки к быстрому преобразованию жизни по приказу) обнаруживаем, что другие – люди, организации, отношения, жизнь – стоят вроде как на месте, изменения незначительны и никак не пропорциональны произносимым словам и внешне затрачиваемым усилиям. И кто-то, возмущенный этим, уже готов нырнуть назад и захлопнуть створки своей раковины, а кто-то с еще большим жаром погоняет жизнь новой тирадой слов. А ведь дело-то не в словах, не только в жизни, нас окружающей, не в других – друзьях ли, недругах, – дело в нас самих.
Мне кажется, что сегодняшнее искусство не обрело еще права на проповедь, ему еще предстоит нелегкая дорога к исповеди. Нелегкая, потому что нередко в последнее время, сталкиваясь на печатных страницах с попыткой исповеди, я с удивлением обнаруживаю, что исповедь у автора совершенно помимо его желания оборачивается передовой статьей на тему, как надо исповедоваться... Куда проще произнести «не лги» или «не укради», чем: «я больше не буду лгать, я не прикоснусь к ворованному». Второе слишком сильно обязывает. А ведь мы и в самом деле не имеем особых оснований себе верить. И потому не любим связывать себя обременительными обязательствами».
Я тогда еще не занимался защитой прав журналистов и потому смотрел на проблему шире, в масштабах всей культуры.
Сегодня мне кажется, что основная моя невольная ошибка заключалась в том, что в понятие «культура» я по привычке включал и журналистику. Теперь я думаю иначе, но диагноз от этого не меняется. Изменились обстоятельства, изменились сильно и заметно – в отличие от нас, к которым эти претензии относятся и по сию пору.
Журналистика, в которую я погрузился с головой, к 1991 году стала чрезвычайно смелой, с сегодняшней точки зрения – неправдоподобно смелой. Но эта смелость относилась к прошлому, а в подходах к сиюминутному быту и политике пресса скорее следовала понятиям бескомпромиссности, чем понятиям разумности. Журналисты примеривали на себя только-только появившееся в России название «четвертая власть», не обращая внимание на то, что четвертой властью все-таки является власть общественного мнения, а не власть прессы.
С 1990 года у прессы появился свой закон о печати, закон грамотный, уравновешенный, юридически для того времени почти безупречный. Но к нему долго относились как к закону, дающему прессе права, и пренебрегали теми его разделами, где речь шла об обязанностях.
К октябрю 1993 года, когда перед прессой встал кардинальный вопрос «с кем вы, мастера культуры – с реакционным Верховным Советом или с лояльным прессе и демократически продвинутым президентом?», пресса разделилась, уже тогда ощущая свою общность как обузу и не отдавая себе отчета в том, что победа в политической склоке намного уступает по значению осознанию общности своих задач и целей.
Фонду защиты гласности, который я возглавлял, в конце октября 1993 года впервые пришлось почувствовать свое одиночество: часть газет коммунистической ориентации была единовременно закрыта, и в демократической прессе у их авторов не было возможности высказаться. Политическая составляющая журналистики превалировала. Если представить себе общество в виде корабля, где власть, государство – сменная команда в капитанской рубке, а пресса – одна из важнейших сил, обеспечивающих устойчивость корабля в штормах и бурях времени, то уже 1993 год показал, что пресса предпочитает быть кем угодно, но – в капитанской рубке, начисто забывая об обязанности обеспечивать устойчивость. Все это привело к тому, что в 1996 году пришла пора либо смириться с естественным ходом событий, либо насильственно изменить возникший в обществе баланс избирательных предпочтений и дружными усилиями заставить общество избрать Ельцина. Альтернативы не рассматривались, пресса поставила вопрос – либо коммунисты, либо Ельцин – и сделала все, чтобы избрали Ельцина.
На этом период существования независимой демократической прессы как более или менее влиятельной общественной силы можно считать завершившимся.
Власть прессу не любит и не должна любить, точно так же, как не должна пресса любить власть. Но выстраивать нормальные отношения между ними в условиях материальной зависимости прессы от властей предержащих трудно, чтобы не сказать невозможно. Первыми это почувствовали на себе несколько тысяч районных газет с тиражом от 3 до 10 тысяч экземпляров, которые составляют одну из основ информационного поля в Российской Федерации. Прошла череда изменений в редакционных документах. Дошло до того, что журналистские коллективы районных газет, сдавая позиции, просили только о двух вещах: чтобы финансирование районных газет происходило из вышестоящих инстанций напрямую, минуя непосредственное районное руководство, и о сохранении выборности главного редактора.
У федеральных газет ситуация складывалась иначе: большинство из них стали частью больших непрофильных холдингов, а позднее и отдельных информационных холдингов, принадлежащих крупным игрокам в сфере рынка ценных бумаг, производства и добычи нефти и газа, крупных промышленных производств. Впоследствии это сильно сказалось на содержании публикаций, потому что с приходом к власти Владимира Путина олигархи с точки зрения прямой их зависимости от политики правительства окажутся наиболее уязвимыми, а поведение их – наиболее контролируемым.
Начиная с 2000 года в стране стала создаваться властная вертикаль. И подобно тому, как Совет Федерации и Государственная Дума потеряли самостоятельность и стали четко управляемыми, информационное поле оказалось вполне подготовленным к преобразованию по образу и подобию власти. Были даже предприняты попытки отделить послушных от непослушных путем создания альтернативы Союзу журналистов в виде Медиасоюза, Индустриального комитета и других бюрократических новаций, которые сыграли свою роль ретрансляторов властного импульса, а затем, дав понять работникам СМИ, насколько слаще сотрудничество с властью, чем противостояние ей, по сути, отпали за ненадобностью и уже сегодня влачат жалкое существование.
Все это имело целью завинтить гайки и, во-первых, сделать информационное пространство ориентированным на главного информатора – власть, а во-вторых – убрать с этого поля наиболее одиозных с ее точки зрения игроков. Так к 2002 году сменили сначала владельцев, а потом и всю команду НТВ, а затем с поля вообще исчезла компания ТВС, куда эта команда, понеся ряд потерь, перешла.
Пробудив в участниках информационного процесса генную память о «большом страхе» советских времен, власть время от времени нажимает на становящиеся все более действенными клавиши этого страха, получая в результате нужную ей мелодию.
Что же мы имеем в результате? На трех федеральных каналах – Первом, Российском и НТВ – все четко контролируется государством и уже привычно определяется еженедельными встречами главных руководителей этих каналов с представителями администрации президента. Канал ТВЦ, финансируемый и контролируемый правительством Москвы, периодически фрондирует в вопросах общегосударственной политики, но трогательно лоялен по отношению к московской власти, которая тоже идет в русле общей государственной политики.
Новости на этих четырех каналах похожи друг на друга, пусть не как однояйцевые близнецы, но как родные братья и сестры, выросшие и воспитанные в одном отчем доме с ясными и недвусмысленными нравственными и житейскими установками.
Кроме того, существует пока достаточно влиятельный, хотя и не самый высокий по рейтингам канал РЕН-ТВ, который сохраняет известную долю независимости, но в силу обстоятельств вынужден оглядываться на своих собратьев и не забегать чересчур вперед.
Прямой эфир практически на всех каналах ликвидирован, и любые передачи, подразумевающие столкновение мнений широкого спектра, существующих по тем или иным вопросам в обществе, проходят через цензуру, вежливо именуемую монтажом.
Федеральные печатные издания позволяют себе высказывать отдельные мнения, так или иначе не совпадающие с точкой зрения власти, однако делают это так робко и вежливо, что сколько-нибудь заметного резонанса не наблюдается. Независимость прессы скукожилась, как бальзаковская шагреневая кожа, и представляет собой одну – федеральную – «Новую газету», радиостанцию «Эхо Москвы» и три-четыре десятка независимых региональных изданий; общий тираж всех этих газет – до 500 тысяч экземпляров, что, безусловно, капля в море для 150-миллионного населения России.
Уникальность «Эха Москвы», а в известной степени и плата за независимость этой радиостанции, – в том, что она предоставляет возможность комментариев не только людям демократической ориентации, но и реакционерам из самых махровых. Мне представляется, что именно это является непременным условием ее существования в нынешнем виде. Но три – три с половиной миллиона слушателей «Эха Москвы», естественно, не могут составить критическую массу для более или менее существенного изменения общественного мнения.
Некоторую надежду можно возложить разве что на региональные издательские комплексы, владеющие собственной типографской базой, постепенно и неуклонно проводящие свою региональную политику.
Никак не уменьшающееся количество исков, предъявляемых представителями власти к прессе повсеместно, по всей Российской Федерации, свидетельствует, что государство в лице властей разного уровня, но выстроенных во внушительную вертикаль, продолжает наступление уже не столько на редакционные коллективы, сколько на отдельных не согласных с общей тенденцией журналистов, еще не лишенных трибуны.
Исследования Фонда защиты гласности показали, что до 70% текстов, печатаемых в газетах и произносимых по телевизионным и радиоканалам, имеют своим главным предметом власть и ее представителей, а общество со всем своим спектром мнений и гражданскими инициативами находится на периферии журналистского сознания и не может в этих условиях играть сколько-нибудь значимую роль в решении главных вопросов жизни страны.
Выводы из всего этого делать, может быть, и преждевременно, но на сегодняшний день очевидно, что имеющийся уровень свободы слова в СМИ не соответствует задачам времени, даже тем, что провозглашены властью.
Источник: "Независимая газета"