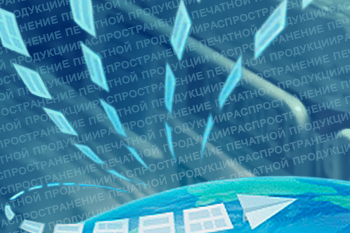«Я считаю, что историю нельзя херить»
— Почему журнал «Сеанс» объявил подписную кампанию — и почему он делает это впервые почти за 30 лет своего существования?
— В фильме «Пираты Карибского моря» есть эпизод, в котором Джек Воробей тащит свой корабль, в очередной раз разрушенный до основания, через пустыню, а на берегу стоит команда, которая вернулась за ним и за «Жемчужиной» на другой конец света. Так вот: сейчас это я и редакция «Сеанса».
При этом ведь совершенно непонятно, за каким таким лешим Джеку Воробью так присралась эта «Жемчужина»? Он мог бы построить новый корабль или украсть другой корабль, но он с маниакальным упорством почему-то тащит свою «Жемчужину». Корабль — такая тема, что, если он случился в твоей жизни, его, не рассуждая, надо спасать.
— Наглядный пример. Давайте тогда начнем издалека: с чего все началось?
— Журнал «Сеанс» был создан в 1989 году. Это было такое странное время, когда Советский Союз еще был, но его уже не было. Очень счастливое время, потому что государство ни с того, ни с сего вдруг оставило нас в покое. При том, что мое поколение — нам тогда было 25-30 лет — уже привыкло жить где-то в подполье, и даже не надеялось из него выйти. А потом пришел Горбачев, и началась какая-то дополнительная жизнь, на которую мы не рассчитывали.
В этот момент я и придумала журнал. Я тогда работала на «Ленфильме», и к нам приходили всякие разнарядки из Госкино, одна из которых гласила, что киностудия имеет право на создание собственной рекламной продукции, в том числе рекламно-информационного вестника. Прочитав эту фразу, я пришла к директору киностудии Александру Голутве, который был моим дружком, и предложила сделать журнал и назвать его «рекламно-информационным вестником». Он сказал: «Тема».
Первый номер вышел тиражом 50 тысяч экземпляров, который был отдан в Союзпечать и немедленно продан. Голутва страшно обрадовался и сказал: «Может, 100 напечатаем?» Но тут рухнула Союзпечать, в разы выросли цены на бумагу, стали рушиться типографии — короче, разваливался Советский Союз со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подножка, на которую мы вспрыгнули, тут же и обвалилась, и мы оказались в чистом поле. Голутва тогда принял решение перевести все цеха и подразделения на самостоятельность, так я стала бизнесменом, то есть бизнесвумен — феминистки меня сейчас убьют, у меня появилась своя собственная компания. К этому я была готова так же, как сейчас выйти манекенщицей на подиум.
— Что было дальше с журналом?
— «Сеанс» делался, но не выходил. Мы не знали, как его напечатать. Потом начались какие-то невероятные приключения. [Режиссер] Сокуров находил спонсоров в Сыктывкаре, в Коми, мы летели туда с Голутвой ночью, нас встречали какие-то люди в кожаных пальто в пол, сажали нас в кортеж машин и везли в лес, в баню.
За моей спиной были мои авторы и моя редакция, и это была гениальная редакция и гениальные авторы. Это был [режиссер, актер, сценарист, кинокритик и историк кино] Сергей Добротворский, это был совсем еще юный [киновед и кинокритик] Миша Трофименков, маленький [кинокритик] Митя Савельев, [писательница, кино- и театральный критик] Таня Москвина. Это был мой муж Олег Ковалов — выдающийся историк кино и писатель, которого при советской власти отовсюду гнали. Это был наш журнал, наша «Жемчужина», с которой я в этом всем хаосе доплыла до какого-то острова, сжимая ее за сломанную мачту, оглянулась вокруг и сказала: «Мы тут будем жить».
Мы никогда не знали, что будет завтра. Находились какие-то шальные спонсоры, которые что-то через нас отмывали. Я клала эти деньги в банк, говорила: «Все хорошо, мы печатаем номер», а на следующее утро этого банка, а вместе с ним и наших денег, уже не было. Или банк оставался на месте, но происходила деноминация, и мои 15 миллионов рублей превращались в 15 рублей, за которые можно было только поужинать в дешевом кафе.
— Как ваша команда реагировала на все эти трудности?
— Как раз в год, когда случился дефолт, я впервые в жизни набрала большую команду — мы тогда занимались семитомной энциклопедией «Новейшая история отечественного кино». Помню, как приехала в редакцию, собрала всех и сказала, что денег нет; что если у кого-то есть возможность куда-то устроиться на работу, немедленно это делайте. Всем, кому некуда идти, я могу гарантировать только одно: я буду платить вам сто долларов в месяц, и еще будет горячее питание. У меня дома тогда лежал конверт с семью с половиной тысячами долларов — от продажи маминой квартиры, — которые без ее ведома я у нее тогда одолжила.
Не ушел ни один человек. Во-первых, некуда было идти. Во-вторых, было так страшно, что лучше было держаться за руки. Через полгода все нормализовалось, финансирование возобновилось, и я вернула маме деньги в ее конверт.
— Почему вы не объявляли подписку тогда?
— Все эти 28 лет я никогда не знала, что будет завтра. Как я могла объявить подписку? У меня никогда не было бюджета, не было директора, мы всегда находились в режиме выживания. Мы жили на гранты: от Госкино, от Роспечати, в 1990-е годы нам помогали европейские фонды, фонд Сороса, шведский киноинститут, британский киноинститут — без них ничего бы не было. В 1994 году мы сделали книгу «Сокуров», права на которую купили японцы — это тоже позволило нашей редакции прожить несколько месяцев и купить первую технику: большой компьютер, сканер и принтер, который занял всю комнату. Это для нас тогда было грандиозное событие — можно было теперь верстать в редакции! В какой-то момент «Мосфильм» заказал нам рекламный каталог на двух языках. Если фестивали заказывали мне какую-то работу, то оплата за этот труд тоже шла в копилку «Сеанса».
— Что изменилось теперь? Вы более уверены в завтрашнем дне?
— В какой-то момент я ушла строить центр «Антон тут рядом», и была уверена, что «Сеанс» будет в порядке. Но вернулась я на руины: долги, отмена Минкультом грантов для печатных изданий, упадок кинокритики.
Сейчас я знаю только одно: у меня есть моя «Жемчужина», и пока я жива, я буду ее тащить через пустыню. В этом журнале произошло слишком много всего важного, я считаю, что историю нельзя херить.
Наверное, в какой-то момент журнал уйдет в зыбучие пески времени, но пока я жива, я буду упираться и убиваться. Ведь у нас в редакции постоянно сидел Алексей Юрьевич Герман, редакция первой смотрела его материалы и его монтажи. Я уже не говорю про Сокурова, который просто наш главный родственник — вся его жизнь, все его фильмы, все куски его биографии неразрывнейшим образом связаны с «Сеансом».
Третий герой, без которого «Сеанс» был бы невозможен, это Алеша Балабанов. С первого его фильма он стал одним из главных наших героев. И если до фильма «Река» это были просто отношения режиссера и журнала, то после него и после Кармадона, после всех трагедий, которые его постигли в начале нулевых годов, эти отношения стали родственными. Если бы Леша не был гениальным режиссером, то я бы просто с ним дружила, но он еще был гением. И он, кроме своих хитов, делал такие шедевры как «Груз 200» или «Кочегар», которые требовали не только аналитики, но и огромной нашей поддержки.
Чуть позже возникли Боря Хлебников, Коля Хомерики, Бакур Бакурадзе, Саша Расторгуев.
Что значит «поддерживали»? Это значит, что мы не просто писали, а участвовали в создании фильмов: нам привозили первые монтажи, нам присылали сценарии. Я не хочу сказать, что «Сеанс» был единственным местом для обсуждения кино, но «Сеанс» был местом. В отсутствие других мест — это важно.
— Почему для вас так важно сохранить именно бумажную версию «Сеанса»?
— Обсуждая этот вопрос со многими людьми, я услышала, что для большинства наших читателей «Сеанс» — это предмет коллекции. Что, вопреки статистике и просто логике, многие хотят иметь в руках именно бумажный журнал. Что и подтверждает нынешняя подписная кампания: было предложено две опции — бумажная и электронная. Электронная в четыре раза дешевле и без геморроя с доставкой. Так вот, только 10% оформили электронную. С другой стороны, «Сеанс» ведь никогда не делался как средство массовой информации. Он всегда был отдельным кинофильмом на бумаге — поэтому макет, дизайн, картинки, визуальная драматургия, качество бумаги всегда были так же важны, как текст.
— Почему вы не объявили краудфандинг?
— Если честно, я исчерпала свои ресурсы по возможности просить и выпрашивать. Я прошу и выпрашиваю для своих аутистов, для своего фонда. Объявлять краудфандинг на «Сеанс» я не могла — это специфика моей ситуации. Я не могу везде просить. Когда ты просишь на центр, который в буквальном смысле слова спасает и родителей, и ребят с аутизмом, ты просишь не для себя. А это — моя «Жемчужина», и получается, что я прошу для себя. Это очень тяжело. Поэтому я хотела объявить честную ставку: мы объявили подписку, у нас нет рекламного бюджета для ее продвижения. Но если мы соберем — значит, соберем; значит, мы нужны.
Кстати, почти каждая подписка сопровождается письмом: совершенно незнакомые нам люди пишут, как мы для них важны. «Держитесь, ребята» и «Пожалуйста, будьте». Для моей редакции, которая была уже совершенно деморализована, это дало толчок для нового подъема.
Конечно, прагматической логики у существования «Сеанса» нет. Но и следовать ей в таком деле нельзя, наоборот, она должна быть перпендикулярна вектору времени. Когда все подчиняются общепринятым трендам, наша жизнь быстро превращается в болото, в котором нет смыслов и энергии.
— Весной 2017 года на платформе «Сеанса» запустился образовательный проект «Чапаев». Что удалось сделать за это время?
— Удалось совершить миллион ошибок. «Чапаев» возник совершенно неожиданно. Я абсолютно не хотела и не думала его делать. Я думала делать фильм и продолжать с фондом, но тут начал загибаться «Сеанс», и [редакционный директор «Сеанса»] Костя Шавловский вспомнил про мою сетевую энциклопедию russiancinema.ru. Это ресурс, на котором можно набрать «Сергей Эйзенштейн» и получить сразу кучу полезных материалов — без похода в библиотеку. Костя предложил провести апгрейд этой энциклопедии, сделать на ее базе образовательные курсы по истории кино — типа «Арзамас», но с энциклопедической базой внутри.
Шел Год кино, и за этот проект Минкульт пообещал довольно серьезную для «Сеанса» сумму, а также финансирование на несколько лет вперед. И я вернулась. Мы собрали команду, придумали и начали заказывать исторические курсы по истории кино — и в этот момент финансирование было остановлено.
Треть полученной первой порции денег мы заплатили дизайн-студии Charmer, которая разрабатывала сайт «Чапаева». Тогда мы совсем не понимали, насколько фатальным для проекта может оказаться непрофессионально составленное техническое задание. Но откуда было взяться профессиональному? Это был первый в моей жизни диджитал-проект.
Сейчас архитектура сайта «Чапаева» представляет из себя памятник ошибкам. При том, что там собрано огромное количество уникального материала, там есть потрясающие авторские тексты и курсы, много архивных, впервые опубликованных вещей.
Сайт продолжает пополняться, но эта работа никому не видна. Наверное, правильным решением с моей стороны было бы нанять эсэмэмщика, который бы радостно транслировал то, что уже было собрано, но я не знаю, где живут эсэмэмщики. Но я узнаю. Я этим совершенно не горжусь, я считаю, что это мой недостаток, я буду над ним работать.
— Когда вы говорили о проблемах, с которыми столкнулся «Сеанс», вы назвали упадок кинокритики. Но в «Сеансе» не только сформировался свой пул кинокритиков, о кино для журнала пишут и философы, и литературоведы, и филологи. Стоит ли тогда говорить о том, что кинокритика умерла?
— В «Сеансе» дебютировали искусствовед Аркадий Ипполитов, историк Лев Лурье, один из первых своих текстов написал [основатель «Афиши»] Илья Ценципер, и многие-многие другие. Даже боюсь кого-то упоминать, чтобы не обидеть других, потому что их действительно было очень много, они если не дебютировали в «Сеансе», то о кино впервые написали для нас, ведь многим из них просто не приходило в голову, что они могут писать о кино.
Что касается кинокритики. Существование этой профессии оправдано и понятно в странах, где есть киноиндустрия, и от того, что скажет и напишет кинокритик, и сколько звездочек он поставит фильму, зависит бокс-офис картины. Но в России пока нет индустрии, она только-только начинает становиться на ноги. И у нас нет института кинокритики как института экспертизы для зрителя.
Как справедливо заметил наш автор Миша Ратгауз, талантливые кинокритики сейчас в основном кураторы.
Но мы справимся. Если кинокритика — это мнение о фильме, то я совершенно не понимаю, почему это мнение должен формулировать человек-кинокритик, а не филолог, философ, искусствовед, писатель или просто человек, который умеет писать. Ведь самое главное — это уметь думать и уметь складывать слова. Если у человека есть мировоззрение и есть литературный талант, то он писатель кино, и никаких специальных знаний для этого не нужно — в отличие от истории кино, где они нужны. История кино — это профессия, серьезная наука, очень важная, потому что история кино — важнейшая часть общей истории. Я не понимаю, почему человек, который продуцирует мнение, важен. Почему важно его мнение?
— И все-таки в России есть небольшое число кинокритиков, чье мнение, может, и не определяет бокс-офис фильма, но уж точно обсуждается. Чем сегодня стали их тексты?
— Ну вот, [главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик «Медузы»] Антон Долин, безусловно, входит в это число. Он не ведает сомнений, высказывает свое мнение как истину в последней инстанции. В каких-то случаях это даже бывает увлекательно. При общем упадке кинокритики его плодовитость и эффективность приводит к тому, что это мнение становится главенствующим. Понимание и видение Антона Долина — важно, репрезентативно, но оно не единственно. Когда оно становится единственным, это дико вредоносно, потому что мнение само по себе не продуктивно, чье бы мнение это ни было.
В «Сеансе» даже в 1990-е годы никогда не было одной рецензии на фильм: всегда было две рецензии и набор мнений, которые высказывали люди разных поколений, разных направлений и разных мировоззрений. Тогда читатель получал портрет фильма и портрет его восприятия современниками.
— Но ведь кинокритика сама по себе предполагает высказывание некоторого субъективного мнения, это один из законов жанра.
— Поэтому это не проблема Долина. Это проблема времени, которое сделало из него законодателя. На фоне общей энтропии и профессиональной лени, чего уж там, его проповедническая страстность, плодовитость и безапелляционность вывела его в лидеры мнения. Но его понимание фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, из-за которого мы с ним сцепились, нерепрезентативно. Существует огромное количество людей, которые думают и понимают совершенно иначе, противоположным образом.
Андрей Звягинцев снял свое художественное высказывание. Оно на пленке. Дело людей, которые пишут и думают о кино, запечатлеть взгляд на него и те мысли, которые возникают от этого просмотра, что они увидели в этом фильме. Это важно не для оценки этого фильма, это важно для понимания времени, себя, смыслов, которые сегодня мы имеем. Фильм — это повод.
— Не кажется ли вам, что это уже стало некой приметой времени — отождествлять себя с чьим-то мнением? Если я за «Нелюбовь», или за [режиссера Кирилла] Серебренникова, то я ставлю лайки под соответствующими постами в фейсбуке и ссорюсь с теми, кто со мной не согласен.
— Самый главный вопрос, который стоит сегодня перед человеком, делающим сайт или журнал о кино: чем ты отличаешься от фейсбука? Куда идет человек, чтобы узнать о том, как люди относятся к той или иной новости или событию? Не на Colta.ru, не на «Медузу» и не на Seance.ru — они идут в фейсбук.
У «Сеанса» сейчас очень мало преимуществ, сегодня это разбитая «Жемчужина». Но «Сеанс» все еще силен в самой своей идее: в фейсбуке вы видите сиюминутное мнение, а в новом номере журнала мы, например, взяли главные российские фильмы этого года — «Нелюбовь», «Тесноту» и «Аритмию», — вытащили из них субстрат и выяснили, что сейчас всех волнует тема семьи, тема горизонтали при рухнувшей вертикали. Неважно, хороший фильм «Нелюбовь» или плохой. Мы не об этом — об этом фейсбук, а мы — о нас. Мы смотрим в зеркало кино и думаем о том, что с нами происходит. Мы делаем материалы с социологами, с психологами, мы даем раздел беллетристики об этом, мы создаем зеркальную комнату, в которую ты можешь прийти и посмотреть на это с разных сторон.
— Какие отношения у «Сеанса» с «Искусством кино»?
— Моя жизнь в профессии началась с «Искусства кино», у меня к нему огромная любовь. Я проходила там практику, я любила всю редакцию, всех этих людей, они все относились ко мне по-отечески, там всегда была атмосфера доброты. Во ВГИКе было очень много злых людей, и там было очень тяжело, очень по-сиротски. А в «Искусстве кино» было круто, там были прекрасные люди, которые курили, смеялись, пили, танцевали, любили кино, смотрели кино в своем маленьком кинозальчике. Это была какая-то немыслимая компания очень умных интеллигентов, которая как-то потрясающе выживала в самые страшные времена.
Какие могут быть у меня отношения с «Искусством кино»? Конечно, когда «Сеанс» возник, возникла некоторая ревность со стороны моих старших товарищей. Помню, [продюсер, сотрудник журнала «Искусство кино»] Левушка Карахан сказал: «Сеанс» — это подписи к картинкам. Ну, прав был, в каком-то смысле. Мы хотели писать ярко, коротко, глаголом зажигать, так сказать. Вообще, во главу угла ставили текст. Не мнение, а текст. Как он написан. Как сделана вещь. И визуальная часть была не менее важна, чем буквы. Это ведь журнал про кино? Он сам должен быть — кино! И мы с «Искусством кино» были очень разными. Мы не выполняли ту функцию, которую честно тащил на себе наш старший брат: он был гораздо более ответственным, чем мы, честно отрабатывал репертуар, фестивали, тенденции. Там была серьезная аналитика. Это был профессиональный аналитический кинокритический журнал о кино. Мне — и нам — делать такой журнал было неинтересно; мне — и нам — был интересен рок-н-ролл.
Когда [в мае 2017 года] умер [главный редактор журнала «Искусство кино»] Даниил Борисович Дондурей, я позвонила Антону [Долину]: «Антон, возьми, потому что иначе журнал погибнет». Здесь была не только любовь к журналу, в котором я выросла, но еще было понимание: «Сеансу» будет плохо, если не будет «Искусства кино», это поле натяжения необходимо.
«Когда теряешь смысл, надо просто уходить. Не надо говорить про эмоциональное выгорание»
— Как бы вы охарактеризовали тот период своей жизни, который начался после знакомства с Антоном Харитоновым? (Антон — главный герой режиссерского дебюта Любови Аркус «Антон тут рядом», 2012, — о молодом человеке с аутизмом. Во время съемок, которые длились четыре года, от рака умерла мать Антона Рината. Съемочная группа фильма, редакция журнала «Сеанс» и сама Аркус все это время участвовали в жизни Антона, а в 2013-м открыли в Санкт-Петербурге центр «Антон тут рядом» — прим. «Медузы».)
— Это второе рождение, это совершенно другая жизнь, вообще другая. Мне кажется теперь, что раньше была и не я. Все, что я в себе убивала, для того, чтобы быть главным редактором журнала, для того, чтобы нормально выглядеть везде, где нужно, чтобы, как говорила моя тетя, быть «не хуже, чем у других девочек» — как шелуха какая-то спала, и я стала гораздо лучше — гораздо хуже, чем другие девочки, но началась моя настоящая жизнь.
— Именно настоящая?
— Я разделяю такую точку зрения — это не моя идея, — что человек рождается не один раз и не один раз умирает. С появлением Антона моя догадка о том, что логика жизни не соответствует ее сути и смыслу, получила реальное воплощение. У меня появилась смелость до конца следовать этому пониманию.
— То, что у вас началась новая жизнь, вы поняли ретроспективно или был какой-то момент — здесь и сейчас — когда вы это осознали?
— Я поняла это месяца через два после знакомства с Антоном. Я познакомилась с ним в мае [2008 года], а это случилось в сентябре.
— Когда вы поехали с ним в лагерь для детей с аутизмом «Онега»? (В фильме этой поездке посвящен целый эпизод — прим. «Медузы».)
— Поехали мы в июле. В первую ночь там я думала о том, как мне дожить до утра, чтобы на первом же автобусе уехать, я не понимала, как мне вообще могло прийти это в голову.
Уже лет пятнадцать я с трудом дохожу от своего собственного автомобиля до двери квартиры, физическая нагрузка для меня тяжела. Я совершенно непритязательный человек, но какой-то совсем минимальный бытовой комфорт мне необходим. А тут лагерь экстремального туризма для детей с аутизмом и их родителей, где был один деревянный гальюн на 50 человек, где не было никаких нормальных продуктов — только крупы и консервы, где ползали гадюки, таились клещи в траве в несметных количествах, огромная туча мошкары, которая просто нас сжирала, несмотря ни на какие репелленты… И ребята с аутизмом со всеми их проявлениями, с которыми я столкнулась впервые, что важно. Я совершенно не знала, как себя вести в этой ситуации.
Но уже через два дня я не знала, как я буду жить без этого всего. В первый раз в жизни я попала к своим. Свои были и раньше, конечно. Но безоговорочно свои — впервые.
— Что вы вкладываете в это понятие — свои?
— Понимаете, я выросла в городе Львове. Львов был маленький европейский город, застрявший между временами и историческими катаклизмами, и не СССР, и не Запад, и не современность, и не история. И потому очень странный и очень настоящий. В нем не было лоска, но были колокольные звоны, кофейный дух, мощеные мостовые, трагическая память, которая сочилась отовсюду… Резня поляков, одна из самых страшных страниц холокоста, уничтожение украинской элиты — это все было здесь, совсем недавно, каких-то два десятка лет до моего рождения. Такого количества городских сумасшедших, в нарядных шляпках, домашних капотах, немыслимых бурнусах, говорящих сами с собой, пританцовывающих и без паузы рыдающих, и опять пританцовывающих — я не видела больше нигде и никогда. У меня было две семьи — русская и еврейская, — и каждая из них пережила свою огромную трагедию: с одной стороны холокост, с другой — сталинский террор.
Я была одиноким ребенком, книжным, внутри меня было очень много чувств, которые бились во мне, и много мыслей, которые взрывали мой мозг, — все это требовало выхода, от жизни я хотела только большого смысла, никак не меньше. И меня было много, во всем слишком много, ту мач, как говорила моя взрослая подруга, научившая меня в 14 лет курить и читать Цветаеву и Мандельштама. Люди ко мне относились хорошо, даже очень хорошо, но всегда хотели, как бы это сказать, несколько «сузить».
Потом я поступила во ВГИК, но надо понимать, что такое ВГИК, на киноведческом факультете тогда учились барышни из семей кинематографистов, кагэбэшников и больших начальников — все они были совершенно не похожи на меня, и мне нужно было среди них выжить. У меня не было такого социального воспитания, которое было у них у всех. И мне пришлось самой себя воспитывать — это выражалось в том, что я отрезала от себя по кусочку все лишнее, все, что мешает выжить. Я делала это всю жизнь — у меня хорошо получалось, я вообще как обезьяна, могу имитировать любой образ.
Когда я оказалась в лагере на Онеге с родителями, которые не отдали своих детей… Это сейчас родителям, у которых рождается ребенок с аутизмом или с синдромом Дауна, очень редко приходит в голову идея отдать ребенка. Тогда они были белыми воронами, и это были своеобразные люди.
Все они вместе создавали территорию, где вообще не было места социальной мимикрии. Здесь для этого не было нужды, да и сил на это не оставалось. Это были люди как они есть. Здесь все означало то, что означало; понятия, чувства, поведение были равны сами себе: гнев — гнев, сила — сила, слезы — слезы, терпение — терпение. Неразбавленная сущность наконец-то. Наконец-то ты можешь сказать: «Фуф. Все, я тут».
— Что сейчас происходит с Антоном Харитоновым?
— С Антоном все супер, насколько это возможно. Летом Антон съездил в лагерь, где ему было очень хорошо. Он ходит в центр, который был создан из-за него и для него, прежде всего. В центре он работает в керамической мастерской. Вот перед вами тарелка, которую сделал Антон.
— Сколько ему сейчас лет?
— Ему 30 лет. Он ходит в центр, после центра едет в «квартиру с поддержанным проживанием», которую мы тоже открыли поначалу из-за Антона и для Антона. В ней живут четверо студентов центра и два сотрудника, которые сменяют друг друга. Они из центра едут в квартиру, по дороге покупают продукты, потом готовят ужин, потом у них свободное время, они занимаются, потом ложатся спать и утром едут в центр.
Там они учатся всем бытовым навыкам: ходить в магазин, покупать продукты, готовить, простраивать свое время. Они учатся быть наедине с собой и быть с другими — важнейшая наука. По выходным Антон проводит время с отцом. Почему он всю неделю не живет с отцом? Отец прекрасен, он вообще теперь не хочет отдавать Антона и не любит эту квартиру. Но у отца есть один серьезный недостаток: он не понимает, что с Антоном надо заниматься и заставлять его что-то делать, иначе будет плохо.
Приезжаю я как-то к ним в Малую Вишеру, где мы купили им дом, и вижу, что папа сидит и чистит картошку. Я говорю: «Вова, Антон умеет чистить картошку», он говорит: «Люб, вы знаете, сколько он срезает? Это ж душа разрывается!» Я говорю: «Володя, я привезу вам машину картошки! Ему надо быть занятым, потому что иначе он ходит, просто ходит — и от безделья у него начинается тревога, и он ухудшается». Что я делаю всегда, когда забираю его к себе на дачу — я пишу ему расписание и вешаю ему на стенку, где полезные занятия чередуются у него с удовольствиями. Например, сначала мы стрижем газон — никогда мой газон не бывает так прекрасен, как во время пребывания Антона, — а после этого мы едим. Еда — это главное удовольствие. Все должно быть расписано, это главный фактор его спокойствия — предсказуемый и построенный день, в котором нет пустот.
— Это правило работает только для Антона?
— Нет, для всех людей с аутизмом. Я сама вывела это правило, не читая никаких книжек, просто наблюдая за Антоном. Я заметила, что когда он не понимает, что будет дальше и что он должен делать прямо сейчас, то начинает дико нервничать. А когда он знает, у него все окей.
— Так вообще о любом из нас можно сказать.
— Совершенно верно. Они же наше зеркало, преувеличенное зеркало. Поэтому, чтобы работать с человеком с аутизмом, нужны только здравый смысл и эмпатия, больше ничего. Еще очень важная вещь — это умение смотреть на человека с позиции глаза в глаза, на равных, и ни в коем случае не сверху вниз: «Ты инвалид, я тебе помогаю, потому что ты без меня ничего не можешь». И не снизу вверх: «Ах, какой ты гениальный, странный, не такой как все, и я буду тебя обожать за это».
— Кто помогает вам собирать деньги на нужды фонда?
— Поначалу это был мой кинематографический круг. Фонд «Выход», подруга моя [сценарист] Дуня Смирнова. И Первый канал, который в прайм-тайм показал фильм «Антон тут рядом» и устроил сбор денег. Это было абсолютно невероятное решение [гендиректора Первого канала] Кости Эрнста — в тот год как раз приняли «закон Димы Яковлева» (закон, запрещающий американцам усыновлять российских сирот; Дима Яковлев был усыновлен гражданами США и погиб из-за неосторожности родителей в 2008-м; из-за закона не были усыновлены в Штаты порядка 200 российских сирот — прим. «Медузы»). Но не только. С первого дня нам помогает [предпринимательница] Виктория Шамликашвили, с которой мы познакомилась на аукционе фонда «Выход».
Когда деньги кончились — за первый год существования центра я три раза попадала в реанимацию, — средства понесли ангелы в человеческих обличьях: это была [режиссер и актриса] Рената Литвинова, которая устроила, причем по своей собственной инициативе, аукцион своих костюмов из «Последней сказки Риты», и мы получили деньги на три или на четыре месяца вперед. Это было что-то немыслимое. Потом [главный редактор журнала «Hello!»] Света Бондарчук и ее аукцион «Action!», потом программа «Голос», один из эфиров которой тоже собирал нам деньги. И художник Оля Тобрелутс, придумавшая благотворительный аукцион и подписавшая в него большую часть современных художников. Фонд «Обнаженные сердца» Наташи Водяновой, в сущности, взяли нас под крыло, и очень много вещей, которые у нас происходят, происходят благодаря «Обнаженным сердцам». Они поделились с нами главными экспертами: профессоры Татьяна Морозова и Святослав Довбня — вообще главные люди для центра в ключевом вопросе обучения сотрудников. То есть главный вклад «Обнаженных сердец» — это образование наших сотрудников. Ведь наши сотрудники это просто молодые люди, которые пришли, потому что хотят в этом работать.
Еще центру очень помогают мои друзья [актер] Даня Козловский и [актриса] Ксюша Раппопорт.
— Люди, которые работают в благотворительных организациях, часто рассказывают об эмоциональном выгорании. Вам знакомо это чувство?
— Я ненавижу это понятие. Я не верю в него. Я считаю, что эмоциональное выгорание возникает тогда, когда человек занимается не своим делом. Я не делю жизнь на жизнь и работу. Работа и есть жизнь. Бывает, что жизнь становится главнее работы. Например, тебя постигла страшная любовь или, например, у меня родился внук Миша, который снес мне крышу вообще, это главная любовь моей жизни. В этот момент мне вообще все было пофигу. Ну, бывает. Бывает, что перевешивает одно, бывает — другое. Но это нераздельное целое.
Эмоциональное выгорание — дико вредное для моей профессии понятие. Когда мы проводим кастинг в центр «Антон тут рядом», то самый главный вопрос, который мы задаем человеку: «Зачем вы сюда пришли?» Если человек говорит, что он пришел помогать людям, которые нуждаются в помощи, то сразу до свидания. Это неправда потому что. Человек врет. Он врет не мне — он врет самому себе. Он искренне считает, что он пришел помогать, потому что он такой хороший. В первую очередь, он пришел помочь сам себе. В этом есть некая пошлость, потому что благотворители очень любят так говорить, но это правда: Антон помог мне гораздо больше, чем я ему.
Эмоциональное выгорание наступает, потому что помогать очень трудно. А ты не помогай — ты работай, бери для себя все: их искренность, то, что они лишены какой-то социальной шелухи, то, что ты все время имеешь дело с неразбавленной сущностью. Когда ты теряешь в этом смысл, тебе надо просто уходить, но не надо говорить про эмоциональное выгорание.
«Чтобы сделать фильм, который живет во мне много лет, мне нужно отменить всю свою жизнь»
— Вы однажды сказали — как мне показалось, с сожалением, — что из-за фонда вам теперь не удастся снять фильм. О каком именно фильме вы говорили?
— Это самая трагическая история в моей жизни, потому что этот фильм во мне живет. Когда я думаю о том, что уже его не сниму, у меня наступает страшное отчаяние. Тут нечего сказать больше, правда.
— О чем этот фильм?
— Это фильм про Львов и про мое детство, про какие-то ситуации, которые я вижу просто по кадрам, я уже их смонтировала.
— Насколько этот фильм собран у вас в голове?
— Он существует картинками, сценами, характерами, кадрами, которые во мне очень давно живут. В первый раз я сделала запись об этом фильме в 1996 году. Я вообще всю жизнь думала, что сейчас поучусь на киноведческом, а потом перейду на режиссерский; сделаю «Сеанс», а потом буду снимать кино. А в какой-то момент я поняла, что этого уже не будет никогда, и забыла про эту мысль. Я ведь не собиралась быть режиссером фильма «Антон тут рядом» — просто так получилось.
В 2012 году у меня была дилемма: создавать фонд или делать этот фильм, который после успеха «Антона», после этого дождя призов и наград все были готовы продюсировать. Это был очень тяжелый выбор. А сейчас наступило отчаяние, потому что мои физические ресурсы очень сильно сдали за последние годы. Сейчас мне нужно вытащить «Жемчужину», наладить ее работу, выполнить обещание подписчикам выпускать четыре номера в год, а потом я буду снимать кино.
— Этот фильм для вас — все-таки мечта или будущий проект?
— Если бы я могла отменить слово «проект», я бы это сделала. Мы недавно с Даней Козловским про это разговаривали. Раньше не было такого слова. Были слова «книга», «фильм», «сценарий», «выставка», «фестиваль», а сейчас это все называется «проектом». По-моему, скоро брак уже начнут называться «проектом».
Я ни в коем случае не сравниваю себя с Алексеем Юрьевичем Германом, который для меня гений всех времен и народов, но если бы вы знали его, вы бы поняли, о чем я говорю. Мы очень много разговаривали за те четверть века, что довелось работать вместе на одной студии и близко дружить. Летом мы вообще жили общей семьей в Репино, где в нашем бедном, любимом, заброшенном Доме творчества у нас были рядом комнаты, и общий холодильник, общая электрическая плитка и видеомагнитофон. Я с детьми и псом Чепчиком Первым, он, его великая жена Света [Кармалита] и пес Медведев. Когда он приступал к «Трудно быть богом», в то первое лето этой адовой работы он каждое утро приходил ко мне в широких трусах, плюхался в кресло и говорил: «Любка, ну что мы сегодня посмотрим?»
Поскольку он готовился к фильму, и его интересовало только средневековье в тот момент, то все лето мы смотрели поочередно два фильма: «Девичий источник» Бергмана и «Андрей Рублев» Тарковского. В «Девичьем источнике» его главным образом интересовал двор главного героя. Чем режиссер усыпал землю? «Я тебе точно говорю, привез много машин говна, и им закрыл землю — по-настоящему, как в Средневековье было». Точно — не точно, но через день нужно было еще раз пересматривать, чтобы проверить — верна ли догадка?
Я это к чему говорю? Нельзя делать кино и еще что-то. Герман был великим мучеником. У него внутри был мир, его гениальный фильм, а на самом деле мир, который уже был внутри него, и он не давал ему не то что отвлекаться на посторонние вещи, но и попросту — жить.
Для того чтобы сделать тот фильм, который живет во мне много лет, мне нужно отменить всю свою жизнь. Если бы я была настоящим режиссером, я бы так и сделала. Наверное, я не настоящий режиссер.
— Когда и почему вы поняли, что нужно снимать фильм про Алексея Балабанова?
— Когда он поехал снимать «Я тоже хочу». Я любила Алешу, как он говорил: «Мы с тобой, Любовь, огромные друзья». У его жены Нади, моей близкой подруги, была такая трудная жизнь — больные родители, два сына, работа. И — Алеша. Прежде всего, Алеша — с которым в этот период было очень трудно справиться. Мы стали в какой-то мере жить вместе — проводить вместе очень много времени, потому что его нельзя было оставлять одного, его все время надо было искать, он пропадал.
В молодости он был трудным человеком. Я тогда любила Надю, а его терпела как мужа своей подруги. Конечно, я считала его потрясающим режиссером, но невыносимым человеком. А в последние годы он стал совершеннейшим ангелом. Трудно поверить, но это правда. Добрым, нежным, и дико немногословным. На любое предложение — чаще всего, что-нибудь поесть, — он спрашивал: «Цель?», и, выслушав аргументы, отвечал: «Не факт». По сути, его речь состояла из нескольких фраз: «Если можешь молчать, молчи», «Слово дал, стой ровно». Такого доброго друга у меня, пожалуй, и не было.
Я поехала с ним и с Надей в экспедицию. Я не собиралась делать фильм, я просто хотела снимать его. Мы уже все понимали, что дорог каждый день, каждая минута. И самым невероятным в этой истории мне казалось то, что он на это согласился. Сразу сказал: «Хорошо, да, давай». Более того, в какие-то моменты он мне объяснял, как надо снимать, говорил: «Ты чего там камеру поставила? Сюда поставь!»
— Я видела несколько фрагментов ваших съемок. На одном из них вы вместе пересматриваете один из его фильмов. Он вообще любил пересматривать свои картины?
— Да, очень. Это было его любимое занятие. Он порой находил каких-то совсем случайных людей, посетителей в баре, ментов, дальнобойщиков, и смотрел с ними. Если не было новеньких, так и быть, усаживал нас с Надей.
— Ему важно было обсудить это с ними или самому что-то объяснить?
— Нет, ему просто нравился этот процесс. Для него каждый фильм — это часть жизни, ему нравилось их пересматривать и одному, и не одному, и со случайными людьми. Поскольку люди с ним общались с удовольствием, он никогда не встречал сопротивления, люди с удовольствием с ним смотрели, а он кайфовал.
К сожалению, миллион вещей я не сняла. Помню, как мы приехали к нему на Новый год, это был 2011-й. Леша был в разобранном состоянии. Когда он не работал, его главное времяпрепровождение выглядело так: он лежал в кровати, над которой у него висел огромный экран, балконная дверь была открыта даже в 30-градусный мороз, он лежал в шерстяных носках, в шерстяном шарфе, в шапке и смотрел кино. Бесконечно. Свое и чужое, неважно какое, главное, чтобы картинки двигались. В ту ночь мы смотрели с ним его свердловское, любительское еще, кино, и он говорил своим тихим голосом: «Любовь, смотри. Видишь — та девушка? Ее уже нету. Видишь этого парня в шапке? Его уже нету. А видишь — вон та девушка симпатичная такая в зеленом платье? (Горделиво.) Я с ней подживал… Ее уже тоже нету…»
— Он все время пытался заглянуть в другой мир?
— Это вообще очень режиссерское такое — смотреть. Ты смотришь как бы другие миры, ты в них погружаешься, и параллельно у тебя работает мысль, какой-то свой ассоциативный ряд. Если это настоящий режиссер, он ведь не совсем здесь живет.
Алексей Юрьевич Герман точно здесь не жил. Жизнь вокруг него была очень лишней. Она страшно ему мешала, он раздражался. За исключением его жены Светы, сына Алеши, собак его и какого-то немногого количества людей, к которым, как ни странно, принадлежала и я.
Он был переполнен своей памятью и, что самое фантастическое, памятью своих родителей, которых безумно любил. Откуда гениальный «Лапшин» и его гениальные фильмы? Оттого, что он как бы был там. Он говорил мне: «Как выглядит счастье? Счастье — это если, например, я иду-иду, и вижу нашу веранду в Комарово, и там сидят мои мама и папа, и пьют чай». Вот эта картинка — она у него была все время перед глазами.
Он все знал про ту жизнь и очень мало про эту. Поэтому он иногда был такой злой, он чувствовал здесь себя слоном в посудной лавке: мощный, гениальный человек — и какая-то жизнь, которая вся не его, вообще вся. А его жизнь осталась там, с его родителями.
Его жена Света — великий человек — была его проводником здесь. Иногда она передоверяла это мне, когда ей надо было съездить в строительный магазин, одного его оставлять было нельзя — ему сразу становилось страшно.
— Фильм об Алексее Балабанове выйдет?
— Сначала я должна вытащить свою «Жемчужину». Я чувствую, что «Сеанс» нужен совсем не только мне. Он не просил меня, чтобы я его создавала, но он создан и он живой, у него есть душа. Когда он умирает, я прямо чувствую, как он плачет. И пока он живой, надо что-то делать, чтобы он выжил. Мне есть чем заняться: у меня лежат два фильма, и третий, о котором мы сейчас с вами говорили, который я даже не надеюсь вообще делать, идеи двух книг, которые надо написать. Вообще у меня уже много смонтировано балабановского фильма. Но сначала — «Жемчужина».
Саша Сулим
Источник: Meduza.io